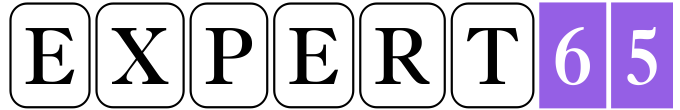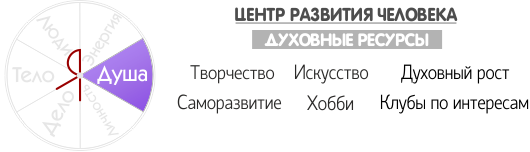Сегодня в эпоху Интернета и мобильной связи эпистолярный жанр вымирает, но вдруг сегодня у вас появится желание написать хотя бы записку (на бумаге!), короткое послание тому, к кому вы неравнодушны. Возможно, вы сами удивитесь, на что вы способны. А пока можно поучиться этому у знаменитых людей.
Дени Дидро – Софи Волан

Я не могу уехать, не сказав Вам нескольких слов. Итак, моя любимица, Вы ждёте от меня много хорошего. Ваше счастье, даже Ваша жизнь зависит, как Вы говорите, от моей любви к Вам!
Ничего не бойтесь, дорогая моя Софи; моя любовь будет длиться вечно, Вы будете жить и будете счастливы. Я никогда ещё не совершал ничего дурного и не собираюсь ступать на эту дорогу. Я весь Ваш – Вы для меня всё. Мы будем поддерживать друг друга во всех бедах, которые может послать нам судьба. Вы будете облегчать мои страдания; я буду помогать Вам в Ваших. Я смогу всегда видеть Вас такой, какой Вы были в последнее время! Что до меня, то Вы должны признать, что я остался таким же, каким Вы увидели меня в первый день нашего знакомства.
Это не только моя заслуга, но ради справедливости я должен сказать Вам об этом. С каждым днём я чувствую себя все более живым. Я уверен в верности Вам и ценю Ваши достоинства все сильнее день ото дня. Я уверен в Вашем постоянстве и ценю его. Ничья страсть не имела под собой больших оснований, нежели моя.
Дорогая Софи, Вы очень красивы, не правда ли? Понаблюдайте за собой – посмотрите, как идет Вам быть влюблённой; и знайте, что я очень люблю Вас. Это неизменное выражение моих чувств.
Спокойной ночи, моя дорогая Софи. Я счастлив так, как только может быть счастлив человек, знающий, что его любит прекраснейшая из женщин.
Вольфганг Амадей Моцарт — Констанце

Дорогая маленькая жёнушка, у меня к тебе есть несколько поручений. Я умоляю тебя:
1) не впадай в меланхолию,
2) заботься о своем здоровье и опасайся весенних ветров,
3) не ходи гулять одна — а ещё лучше вообще не ходи гулять,
4) будь полностью уверена в моей любви. Все письма тебе я пишу, поставив перед собой твой портрет.
6) и под конец я прошу тебя писать мне более подробные письма. Я очень хочу знать, приходил ли навестить нас шурин Хофер на следующий день после моего отъезда? Часто ли он приходит, как обещал мне? Заходят ли Лангесы иногда? Как движется работа над портретом? Как ты живёшь? Всё это, естественно, меня чрезвычайно интересует.
5) Я умоляю тебя вести себя так, чтобы не пострадало ни твоё, ни моё доброе имя, также следи за своей внешностью. Не сердись на меня за такую просьбу. Ты должна любить меня ещё сильнее за то, что я забочусь о нашей с тобой чести.
В.А. Моцарт
Виктор Гюго – Адель Фуше

Несколько слов от тебя, моя любимая Adele, вновь изменили моё настроение. Да, ты можешь делать со мной всё что угодно. И завтра я непременно умру, если волшебный звук твоего голоса и нежное прикосновение твоих обожаемых губ не вдохнут в меня жизнь. С какими противоречивыми чувствами я ложился спать! Вчера, Adele, я утратил веру в твою любовь и призывал час смерти.
Я говорил себе: «Если правда, что она не любит меня, если ничто во мне не смогло заслужить благословения её любви, без которой моя жизнь лишится привлекательности, это ли не причина умереть? Должен ли я жить только ради своего личного счастья? Нет; всё моё существование посвящено ей одной, даже вопреки её желанию. И по какому праву посмел я домогаться её любви? Разве я ангел или божество? Я люблю её, это правда. Я готов с радостью принести ей в жертву всё, что она пожелает, — всё, даже надежду быть любимым ею. Нет в мире преданности большей, чем моя по отношению к ней, к её улыбке, к одному её взгляду.
Но могу ли я быть другим? Разве не она — цель всей моей жизни? Если она выкажет равнодушие ко мне, даже ненависть, это будет моим несчастьем, концом. Но не повредит ли это её счастью? Да, если она не в силах любить меня, я должен винить в этом только себя одного. Мой долг — следовать за ней по пятам, быть рядом с ней, служить преградой для всех опасностей, служить спасительным мостиком, вставать без устали между ней и всеми печалями, не требуя никакой награды, не ожидая никакой благодарности.
Только бесконечное счастье даст она, если иногда соизволит бросить жалостливый взгляд на своего раба и вспомнит о нём в миг опасности! Вот так! Если она только позволит мне положить свою жизнь на то, чтобы предугадывать каждое её желание, исполнять все её капризы. Если она только разрешит мне целовать почтительно ее восхитительные следы; если она хотя бы согласится опираться на меня в тяжёлые минуты жизни. Тогда я буду обладать единственным счастьем, к которому стремлюсь.
Но если я готов пожертвовать всем ради неё, должна ли она быть благодарна мне? Её ли это вина, что я люблю её? Должна ли она считать, что обязана любить меня? Нет! Она может смеяться над моею преданностью, принимать мои услуги с ненавистью, отталкивать моё поклонение с презрением, при этом у меня ни на мгновение не будет права пожаловаться на этого ангела; не будет морального права приостановить мою щедрость по отношению к ней, щедрость, которой она пренебрегает. Каждый мой день должен быть отмечен жертвой, принесённой ей, и даже в день моей смерти не исчезнет мой неоплатный долг перед ней».
Таковы мысли, моя возлюбленная Adele, посетившие меня вчера вечером. Только теперь они смешиваются с надеждой на счастье — такое великое счастье, что я не могу думать о нем без трепета.
Это правда, что ты любишь меня, Adele? Скажи, и я поверю в эту изумительную идею. Ты ведь не думаешь, что я сойду с ума от радости, бросив свою жизнь к твоим ногам, будучи уверенным, что сделаю тебя столь же счастливой, сколь счастлив я сам, будучи уверенным, что ты будешь восхищаться мной так же, как я восхищаюсь тобой? О! Твоё письмо восстановило мир в моей душе, твои слова, произнесённые этим вечером, наполнили меня счастьем. Тысяча благодарностей, Аdele, мой возлюбленный ангел. Если бы я мог пасть ниц пред тобой, как перед божеством! Какое счастье ты принесла мне! Аdieu, аdieu, я проведу восхитительную ночь, мечтая о тебе.
Спи спокойно, позволь твоему мужу взять двенадцать поцелуев, которые ты обещала ему, помимо тех, что еще не обещаны.
Бетховен своей Возлюбленной

Даже в постели мысли мои летят к тебе, Бессмертная Любовь моя! Меня охватывает то радость, то грусть в ожидании того, что готовит нам судьба. Я могу жить либо с тобой, либо не жить вовсе. Да, я решил до тех пор блуждать вдали от тебя, пока не буду в состоянии прилететь и броситься в твои объятия, чувствовать тебя вполне своей и наслаждаться этим блаженством. Так должно быть. Ты согласишься на это, ведь ты не сомневаешься в моей верности тебе; никогда другая не овладеет моим сердцем, никогда, никогда. О, Боже, зачем расставаться с тем, что так любишь!
Жизнь, которую я веду теперь в В., тяжела. Твоя любовь делает меня одновременно счастливейшим и несчастнейшим человеком. В мои годы требуется уже некоторое однообразие, устойчивость жизни, а разве они возможны при наших отношениях? Ангел мой, сейчас узнал только, что почта уходит ежедневно, я должен закончить, чтобы ты скорей получила письмо. Будь спокойна; будь спокойна, люби меня всегда.
Какое страстное желание видеть тебя! Ты – моя Жизнь – мое Всё – прощай. Люби меня по-прежнему – не сомневайся никогда в верности любимого тобою
А.
Навеки твой,
Навеки моя,
Навеки мы — наши.
Джек Лондон – Анне Странски

Дорогая Анна:
Я говорил, что всех людей можно разделить на виды? Если говорил, то позволь уточнить – не всех. Ты ускользаешь, я не могу отнести тебя ни к какому виду, я не могу раскусить тебя. Я могу похвастаться, что из 10 человек я могу предсказать поведение девяти. Судя по словам и поступкам, я могу угадать сердечный ритм девяти человек из десяти. Но десятый для меня загадка, я в отчаянии, поскольку это выше меня. Ты и есть этот десятый.
Бывало ли такое, чтобы две молчаливые души, такие непохожие, так подошли друг другу? Конечно, мы часто чувствуем одинаково, но даже когда мы ощущаем что-то по-разному, мы все таки понимаем друг друга, хоть у нас нет общего языка. Нам не нужны слова, произнесенные вслух. Мы для этого слишком непонятны и загадочны. Должно быть Господь смеётся, видя наше безмолвное действо.
Единственный проблеск здравого смысла во всём этом – это то, что мы оба обладаем бешенным темпераментом, достаточно огромным, что нас можно было понять. Правда, мы часто понимаем друг друга, но неуловимыми проблесками, смутными ощущениями, как будто призраки, пока мы сомневаемся, преследуют нас своим восприятием правды. И всё же я не смею поверить в то, что ты и есть тот десятый человек, поведение которого я не могу предсказать.
Меня трудно понять сейчас? Я не знаю, наверное, это так. Я не могу найти общий язык.
Огромный темперамент – вот то, что позволяет нам быть вместе. На секунду в наших сердцах вспыхнула сама вечность и нас притянуло к друг другу, несмотря на то, что мы такие разные.
Я улыбаюсь, когда ты проникаешься восторгом? Эта улыбка, которую можно простить – нет, это завистливая улыбка. 25 лет я прожил в подавленном состоянии.
Я научился не восхищаться. Это такой урок, который невозможно забыть. Я начинаю забывать, но этого мало. В лучшем случае, я надеюсь, что до того как я умру, я забуду всё, или почти всё. Я уже могу радоваться, я учусь этому понемножку, я радуюсь мелочам, но я не могу радоваться тому, что во мне, моим самым сокровенным мыслям, я не могу, не могу. Я выражаюсь неясно? Ты слышишь мой голос? Боюсь нет. На свете есть много лицемерных позёров. Я самый успешный из них
Наполеон Бонапарт – Жозефине

Не было дня, чтобы я не любил тебя; не было ночи, чтобы я не сжимал тебя в своих объятиях. Я не выпиваю и чашки чая, чтобы не проклинать свою гордость и амбиции, которые вынуждают меня оставаться вдалеке от тебя, душа моя. В самом разгаре службы, стоя во главе армии или проверяя лагеря, я чувствую, что мое сердце занято только возлюбленной Жозефиной. Она лишает меня разума, заполняет собой мои мысли.
Если я удаляюсь от тебя со скоростью течения Роны, это означает только то, что я, возможно, вскоре увижу тебя. Если я встаю среди ночи, чтобы сесть за работу, это потому, что так можно приблизить момент возвращения к тебе, любовь моя. В своем письме от 23 и 26 вантоза ты обращаешься ко мне на «Вы». «Вы» ? А, черт! Как ты могла написать такое? Как это холодно!..
…Жозефина! Жозефина! Помнишь ли ты, что я тебе сказал когда-то: природа наградила меня сильной, непоколебимой душой. А тебя она вылепила из кружев и воздуха. Ты перестала любить меня? Прости меня, любовь всей моей жизни, моя душа разрывается.
Сердце моё, принадлежащее тебе, полно страха и тоски… Мне больно оттого, что ты не называешь меня по имени. Я буду ждать, когда ты напишешь его. Прощай! Ах, если ты разлюбила меня, значит, ты меня никогда не любила! И мне будет о чем сожалеть!
Наполеон Бонапарт – Жозефине в Милан (13 ноября 1796 года, отправлено из Вероны)
Я больше тебя не люблю… Наоборот, я ненавижу тебя. Ты — мерзкая, глупая, нелепая женщина. Ты мне совсем не пишешь, ты не любишь своего мужа. Ты знаешь, сколько радости доставляют ему твои письма, и не можешь написать даже шести беглых строк.
Однако чем Вы занимаетесь целый день, сударыня? Какие неотложные дела отнимают у Вас время, мешают Вам написать своему очень хорошему любовнику?
Что мешает Вашей нежной и преданной любви, которую Вы ему обещали? Кто этот новый соблазнитель, новый возлюбленный, который претендует на все Ваше время, не давая Вам заниматься супругом? Жозефина, берегись: в одну прекрасную ночь я взломаю твои двери и предстану пред тобой.
На самом деле, мой дорогой друг, меня тревожит то, что я не получаю от тебя вестей, напиши мне быстро четыре страницы, и только о тех приятных вещах, которые наполнят мое сердце радостью и умилением.
Надеюсь скоро заключить тебя в свои объятия и покрыть миллионом поцелуев, жгучих, как лучи солнца на экваторе.
Бонапарт
Марк Твен – Ливи

Ливи, дорогая, сегодня мы с радостным гиканьем шесть часов подряд лазали вверх и вниз по крутым холмам, в грязных и мокрых башмаках, под дождём, который не прекращался ни на минуту. Всю дорогу я был бодр и свеж, как жаворонок, и прибыл на место без малейшего чувства усталости. Мы помылись, вылили воду из ботинок, поели, разделись и улеглись спать на два с половиной часа, пока наши одёжки и снаряжение сохли, а ботинки ещё и подвергались чистке. Потом мы надели ещё тёплую одежду и отправились к столу.
Я завёл несколько милых друзей-англичан и завтра увижусь с ними в Зерматте. Собрал маленький букет цветов, но они завяли. Я отправил тебе полную коробку цветов вчера вечером из Люкербада.
Я только что послал телеграмму, чтобы ты завтра передала семейные новости по телеграфу мне в Рифель. Надеюсь, у вас всё в порядке и вы так же весело проводите время, как и мы. Люблю тебя, моё сердечко, тебя и деток. Передай мою любовь Кларе Сполдинг, а также ребятишкам.
Вагнер – Матильде Везендонк

А моя милая муза всё ещё вдали? Молча ждал я её посещения; просьбами тревожить её не хотел. Муза, как и любовь, осчастливливает свободно. Горе глупцу, горе нищему любви, если он хочет силою взять то, что ему не даётся добровольно. Их нельзя приневоливать. Не правда ли? Не правда ли? Как могла бы любовь быть музою, если бы она позволяла себя принуждать?
А моя милая муза всё ещё вдали от меня?
Чарльз Дарвин – Эмме Веджвуд

Не могу передать тебе, какое удовольствие я получил от визита к Маерам. Я предвкушал будущую безмятежную жизнь: очень надеюсь, что ты сможешь быть так же счастлива, как я. Но когда я думаю об этом, меня пугает, что ты не привыкла к такому образу жизни. Сегодня утром я думал о том, как случилось, что на меня, человека общительного и сугубо рационального, так благотворно действует счастье, и тишина, и уединение. Объяснение, полагаю, достаточно просто, я говорю о нём потому, что оно даст тебе надежду, что со временем я стану менее неотесанным и грубым.
Всему виной пять лет моего путешествия (и, конечно, последние два года), которые, можно сказать, стали началом моей настоящей жизни. Несмотря на активный образ жизни, который я там вёл – восхищался невиданными животными, путешествовал по диким пустыням или непроходимым лесам, расхаживал по палубе старины «Бигля» в ночи – истинное наслаждение доставляло мне только то, что происходило в моей голове. Прости мой эгоизм, я рассказываю об этом в надежде, что ты облагородишь меня, научишь находить счастье не только в построении теорий и осмысливании фактов в тишине и одиночестве.
Дражайшая моя Эмма, я горячо молюсь, чтобы ты никогда не пожалела ни о чём, и я добавлю ещё кое-что – ты получишь во вторник: моя дорогая будущая жена, да благословит тебя Бог…
Сегодня после церкви заходили Лайелы; Лайел так занят геологией, что ему необходима разгрузка; в качестве почётного гостя я обедаю у них во вторник. Сегодня мне было немного стыдно за себя, мы говорили около получаса и всё о геологии, а бедная миссис Лайел сидела рядом, подобно монументу, воплощающему терпение. Наверное, мне стоит попрактиковаться в общении с женским полом, хотя не заметил, чтобы Лайел испытывал хоть какие-то угрызения совести. Надеюсь со временем укрепить свою совесть: немногие мужья, кажется, считают это трудным делом.
После возвращения я несколько раз заглядывал в нашу гостиную, чему ты охотно поверишь. Полагаю, мой вкус в выборе цвета уже испорчен, поскольку я заявляю, что комната смотрится уже менее безобразной. Я получил так много удовольствия, находясь в доме, что, наверное, стал похож на ребёнка-переростка, увлечённого новой игрушкой. Но все же я не совсем ребёнок, поскольку страстно желаю иметь жену и друга.
Джон Китс – Фанни Браун

Милая моя девочка!
Ничто в мире не могло одарить меня большим наслаждением, чем твоё письмо, разве что ты сама. Я почти уже устал поражаться тому, что мои чувства блаженно повинуются воле того существа, которое находится сейчас так далеко от меня.
Даже не думая о тебе, я ощущаю твоё присутствие, и волна нежности охватывает меня. Все мои мысли, все мои безрадостные дни и бессонные ночи не излечили меня от любви к Красоте. Наоборот, эта любовь стала такой сильной, что я в отчаянии оттого, что тебя нет рядом, и вынужден в унылом терпении превозмогать существование, которое нельзя назвать Жизнью. Никогда прежде я не знал, что есть такая любовь, какую ты подарила мне. Я не верил в неё; я боялся сгореть в её пламени. Но если ты будешь любить меня, огонь любви не сможет опалить нас – он будет не больше, чем мы, окроплённые росой Наслаждения, сможем вынести.
Ты упоминаешь «ужасных людей» и спрашиваешь, не помешают ли они нам увидеться вновь. Любовь моя, пойми только одно: ты так переполняешь моё сердце, что я готов превратиться в Ментора, едва заметив опасность, угрожающую тебе. В твоих глазах я хочу видеть только радость, на твоих губах – только любовь, в твоей походке – только счастье.
Я хотел бы видеть в твоих глазах только удовольствие. Пусть же наша любовь будет источником наслаждения, а не укрытием от горя и забот. Но если случится худшее, вряд ли я смогу оставаться философом и следовать собственным предписаниям; если моя твёрдость причинит тебе боль – не смогу! Почему же мне не говорить о твоей Красоте, без которой я никогда не смог бы полюбить тебя? Пробудить такую любовь, как моя любовь к тебе, способна только Красота – иного я не в силах представить. Может существовать и другая любовь, к которой без тени насмешки я готов питать глубочайшее уважение и восхищаться ею. Но она лишена той силы, того цветения, того совершенства и очарования, которыми наполнено моё сердце. Так позволь же мне говорить о твоей Красоте, даже если это опасно для меня самого: вдруг ты окажешься достаточно жестокой, чтобы проверить ее Власть над другими?
Ты пишешь, что боишься – не подумаю ли я, что ты меня не любишь; эти твои слова вселяют в меня мучительное желание быть рядом с тобой. Здесь я усердно предаюсь своему любимому занятию – не пропускаю дня без того, чтобы не растянуть подлиннее кусочек белого стиха или не нанизать парочку другую рифм.
Должен признаться (раз уж заговорил об этом), что я люблю тебя ещё больше потому, что знаю: ты полюбила меня именно таким, какой я есть, а не по какой-либо иной причине. Я встречал женщин, которые были бы счастливы обручиться с Сонетом или выйти замуж за Роман. Я видел твою Комету; хорошо, если бы она послужила добрым предзнаменованием для бедного Раиса: из-за его болезни делить с ним компанию не очень-то весело, тем более что он пытается побороть и утаить от меня свой недуг, отпуская сомнительные каламбуры.
Я расцеловал твое письмо вдоль и поперёк в надежде, что ты, приложив к нему губы, оставила на строчках вкус мёда. Что ты видела во сне? Расскажи мне свой сон, и я представлю тебе толкование.
Всегда твой, моя любимая! Джон Китс
Альфред де Мюссе – Жорж Санд

(1833 год)
Моя дорогая Жорж, мне нужно сказать Вам кое-что глупое и смешное. Я по-дурацки пишу Вам, сам не знаю почему, вместо того чтобы сказать Вам все это, вернувшись с прогулки. Вечером же впаду из-за этого в отчаяние. Вы будете смеяться мне в лицо, сочтете меня фразёром. Вы укажете мне на дверь и станете думать, что я лгу.
Я влюблён в Вас. Я влюбился в Вас с первого дня, когда был у Вас. Я думал, что исцелюсь от этого очень просто, видясь с Вами на правах друга. В Вашем характере много черт, способных исцелить меня; я изо всех сил старался убедить себя в этом. Но минуты, которые я провожу с Вами, слишком дорого мне обходятся. Лучше уж об этом сказать — я буду меньше страдать, если Вы укажете мне на дверь сейчас. Сегодня ночью, когда я… [Жорж Санд, редактируя письма Мюссе перед публикацией, перечеркнула два слова и ножницами вырезала следующую строку] я решил сказать Вам, что я был в деревне. Но я не хочу ни загадывать загадок, ни создавать видимость беспричинной ссоры. Теперь, Жорж, Вы, как обычно, скажете: «Ещё один докучный воздыхатель!» Если я для Вас не совсем первый встречный, то скажите мне, как Вы сказали бы это мне вчера в разговоре о ком-то ещё, — что мне делать.
Но умоляю, — если Вы собираетесь сказать мне, что сомневаетесь в истинности того, что я Вам пишу, то лучше не отвечайте вовсе. Я знаю, что Вы обо мне думаете; говоря это, я ни на что не надеюсь. Я могу только потерять друга и те единственно приятные часы, которые провёл в течение последнего месяца. Но я знаю, что Вы добры, что Вы любили, и я вверяюсь вам, не как возлюбленной, а как искреннему и верному товарищу.
Жорж, я поступаю как безумец, лишая себя удовольствия видеть Вас в течение того короткого времени, которое Вам остается провести в Париже до отъезда в Италию. Там мы могли бы провести восхитительные ночи, если бы у меня было больше решительности. Но истина в том, что я страдаю, и мне не хватает решительности.
Альфред де Мюссе
Генрих VIII — Анне Болейн

Возлюбленная моя и друг мой, моё сердце и я передаём себя в Ваши руки, в смиренной мольбе о Вашем добром расположении и о том, чтобы Ваша привязанность к нам не стала бы меньше, пока нас нет рядом. Ибо не будет для меня большего несчастья, нежели усугубить Вашу печаль. Достаточно печали приносит разлука, даже больше, чем мне когда-либо представлялось. Сей факт напоминает мне об астрономии: чем дальше полюса от солнца, тем нестерпимей жар. То же с нашей любовью, ибо отсутствие Ваше разлучило нас, но любовь сохраняет свой пыл — по крайней мере с моей стороны. Надеюсь, с Вашей тоже.
Уверяю Вас, что в моём случае тоска от разлуки настолько велика, что была бы невыносима, не будь я твёрдо уверен в прочности Ваших чувств ко мне. Не видя возможности оказаться рядом с Вами, я посылаю Вам вещицу, которая более всего близка мне, сиречь браслет с моим портретом, с тем устройством, о котором Вам уже известно. Как бы я хотел оказаться на его месте, чтобы видеть Вас и то, как Вы будете радоваться ему. Писано рукой Вашего верного слуги и друга,
Г.Р.
Гюстав Флобер – Луизе Коле

(Круассе, суббота, час ночи)
Ты говоришь мне очень нежные слова, дорогая Муза. Еh bien, получай в ответ такие нежные слова, какие ты даже не можешь вообразить. Твоя любовь пропитывает меня, будто тёплый дождь, я чувствую себя омытым ею до самых глубин сердца.
Есть ли в тебе хоть что-то, не заслуживающее моей любви, — тело, ум, нежность? Ты открыта душой и сильна разумом, в тебе очень мало поэтического, но ты настоящий поэт. Всё в тебе — прелесть, ты похожа на свою грудь, такая же белоснежная и мягкая. Ни одна из женщин, которых я знал раньше, не может сравниться с тобой.
Вряд ли те, кого я желал, равны тебе. Иногда я пытаюсь представить твоё лицо в старости, и мне кажется, я и тогда буду любить тебя, может быть, даже ещё сильнее.
Иоганн Кристоф Фридрих фон Шиллер – Шарлотте фон Ленгефельд

(3 августа 1789 года)
Правда ли это, дорогая Лотта? Могу ли я надеяться, что Каролина прочла в Вашей душе и передала мне из глубин Вашего сердца то, в чём я не осмеливался себе признаться? О, какою тяжёлою казалась мне эта тайна, которую я должен был хранить всё время, с той минуты, как мы с Вами познакомились.
Часто, когда мы ещё жили вместе, я собирал всё свое мужество и приходил к Вам, намереваясь открыться, но мужество постоянно оставляло меня. В этом моём стремлении я видел эгоизм; я боялся, что забочусь только о своём счастье, и эта мысль страшила меня. Если я не мог быть для Вас тем же, чем Вы были для меня, то мои страдания расстроили бы Вас. Своим признанием я разрушил бы чудесную гармонию нашей дружбы, потерял бы то, что имел, – Ваше чистое, сестринское расположение.
И всё же бывали минуты, когда надежда моя оживала, когда счастье, которое мы могли подарить друг другу, казалось мне бесконечно выше решительно всех рассуждений, когда я даже считал благородным принести ему в жертву всё остальное. Вы могли бы быть счастливы без меня, но никогда не стали бы несчастной из-за меня. Это я в себе живо чувствовал – и на этом тогда построил мои надежды.
Вы могли отдать себя другому, но никто не мог любить Вас чище и нежнее, чем я. Ни для кого иного Наше счастье не могло быть священнее, чем оно всегда было и будет для меня. Всё мое существование, всё, что во мне живёт, всё самое дорогое во мне посвящаю я Вам. И если я стремлюсь облагородить себя, то только для того, чтобы стать более достойным Вас, чтобы сделать Вас более счастливою. Благородство души способствует прекрасным и нерасторжимым узам дружбы и любви. Наша дружба и любовь будут нерасторжимы и вечны, как чувства, на которых мы их воздвигли.
Забудьте всё, что могло стеснять Ваше сердце, позвольте говорить лишь Вашим чувствам. Подтвердите то, на что позволила мне надеяться Каролина. Скажите, что Вы хотите быть моею и что моё счастье не составляет для Вас жертвы. О, убедите меня в этом одним-единственным словом. Близки друг другу наши сердца были уже давно. Пусть же отпадет то единственное чуждое, что стояло до сих пор между нами, и пусть ничто не мешает свободному общению наших душ.
До свиданья, дорогая Лотта. Я
жажду подходящей минуты, чтобы
описать Вам все чувства моего сердца; они делали меня то счастливым, то снова несчастным так долго. И теперь одно только это желание обитает в моей душе.
…Не медлите с тем, чтобы навсегда унять моё беспокойство. Отдаю в Ваши руки всё счастье моей жизни… До свиданья, дорогая!
Лорд Байрон – леди Каролине Лэм

Дорогая моя Каролина, если слёзы, которые Вы видели и которые, знаю, я не должен был проливать, если бы не волнение, переполнявшее меня в момент расставания с Вами, – волнение, которое Вы должны были почувствовать во время последних событий; если бы всё это не началось ещё до Вашего отъезда; если всё, что я сказал и совершил, и ещё готов сказать и совершить, не доказало в достаточной мере, каковы есть и всегда будут мои чувства по отношению к Вам, моя любовь, тогда у меня нет других доказательств для Вас.
Бог знает, никогда до этой минуты я не думал, что Вы, моя любовь, мой дорогой друг, можете быть такой неистовой. Я не могу выразить всё, сейчас не время для слов. Но я буду испытывать чувство гордости и получать печальное удовольствие от страданий, которые Вы испытали. И от того, что Вы совсем не знаете меня.
Я готов уйти, но с тяжёлым сердцем. Ведь моё появление в этот вечер положит конец любой нелепой истории, которую события этого дня могли породить. Думаете ли Вы теперь, что я холоден, безжалостен и своеволен? Будут ли так думать другие? И Ваша мать? Мать, которой мы должны приносить в жертву гораздо больше, гораздо больше, чем она когда-либо узнает или вообразит.
« Обещаю не любить тебя »? Ах, Каролина, эти обещания в прошлом! Но я объясню все признания должным образом и никогда не перестану чувствовать всё то, чему Вы уже были свидетелем; даже больше того — о чем знает моё сердце и, возможно, Ваше. Пусть Бог простит, защитит и осчастливит Вас навеки. Самый преданный Вам
Байрон
Р.S. Вот к чему привели Ваши насмешки, моя дорогая Каролина. Есть ли что-либо на небесах или на земле, что могло бы сделать меня таким же счастливым, каким Вы меня когда-то сделали? И теперь не меньше, чем тогда, но больше, чем в настоящем времени.
Бог знает, я желаю Вам счастья. Если даже я оставлю Вас или Вы, из чувства долга по отношению к мужу и матери, покинете меня, Вы поймёте, что я говорю правду, когда обещаю и клянусь, что никакой человек, никакое занятие не займёт в моём сердце место которое принадлежит и будет принадлежать Вам вечно, до самой моей смерти. Вы знаете, я бы с радостью бросил всё здесь или даже в загробном мире ради Вас, так неужели мои побуждения могут быть поняты превратно?
Меня не заботит, кто знает об этом и как это может быть использовано — это для тебя, только для тебя. Я был твоим и сейчас я твой, целиком и полностью, чтобы повиноваться, почитать, любить тебя и летать с тобой, когда, где и как тебе будет угодно.
Оноре де Бальзак — графине Эвелине Ганской

Как бы хотелось мне провести день у Ваших ног; положив голову Вам на колени, грезить о прекрасном, в неге и упоении делиться с Вами своими мыслями, а иногда не говорить вовсе, но прижимать к губам край Вашего платья!..
О, моя любовь, Ева, отрада моих дней, мой свет в ночи, моя надежда, восхищение, возлюбленная моя, драгоценная, когда я увижу Вас? Или это иллюзия? Видел ли я Вас? О боги! Как я люблю Ваш акцент, едва уловимый, Ваши добрые губы, такие чувственные, — позвольте мне сказать это Вам, мой ангел любви.
Я работаю днём и ночью, чтобы приехать и побыть с Вами две недели в декабре. По дороге я увижу Юрские горы, покрытые снегом, и буду думать о снежной белизне плеч моей любимой. Ах! Вдыхать аромат волос, держать за руку, сжимать Вас в объятиях — вот откуда я черпаю вдохновение! Мои друзья изумляются несокрушимости моей силы воли. Ах! Они не знают моей возлюбленной, той, чей чистый образ сводит на нет все огорчение от их желчных выпадов. Один поцелуй, мой ангел, один медленный поцелуй, и спокойной ночи!
Франсуа Вольтер к Олимпии Дюнуайэ

Мне кажется, милая барышня, что вы меня любите, потому будьте готовы в данных обстоятельствах пустить в ход всю силу вашего ума. Лишь только я вернулся вчера в отель, г. Лефебр сказал мне, что сегодня я должен уехать, и я мог только отсрочить это до завтра; однако он запретил мне отлучаться куда-либо до отъезда; он опасается, чтобы сударыня ваша матушка не нанесла мне обиды, которая может отозваться на нём и на короле; он даже не дал мне ничего возразить; я должен непременно уехать, не повидавшись с вами. Можете представить себе моё отчаяние. Оно могло бы стоить мне жизни, если бы я не надеялся быть вам полезным, лишаясь вашего драгоценного общества. Желание увидеть вас в Париже будет утешать меня во время моего пути. Не буду больше уговаривать вас оставить вашу матушку и увидаться с отцом, из объятий которого вас вырвали, чтобы сделать здесь несчастной.
Я проведу весь день дома. Перешлите мне три письма: одно для вашего отца, другое для вашего дяди, и третье для вашей сестры; это безусловно необходимо, я передам их в условленном месте, особенно письмо вашей сестре. Пусть принесёт мне эти письма башмачнике: обещайте ему награду; пусть он придёт с колодкой в руках, будто для поправки моих башмаков. Присоедините к этим письмам записочку для меня, чтобы, уезжая, мне послужило хотя бы это утешением, но, главное, во имя любви, которую я питаю к вам, моя дорогая, пришлите мне ваш портрет; употребите все усилия, чтобы получить его от вашей матушки; он будет себя чувствовать гораздо лучше в моих руках, чем в её, ибо он уже царит в моём сердце.
Слуга, которого я посылаю к вам, безусловно предан мне; если вы хотите выдать его вашей матери за табакерщика, то он – нормандец и отлично сыграет свою роль: он передаст вам все мои письма, которые я буду направлять по его адресу, и вы можете пересылать свои также через него; можете также доверить ему ваш портрет.
Пишу вам ночью, ещё не зная, как я уеду; знаю только, что должен уехать: я сделаю всё возможное, чтобы увидать вас завтра до того, как я покину Голландию. Но так как я не могу этого обещать наверное, то говорю вам, душа моя, моё последнее прости, и, говоря вам это, клянусь всею тою нежностью, какую вы заслуживаете.
Да, дорогая моя Пимпеточка, я буду вас любить всегда; так говорят даже самые ветреные влюблённые, но их любовь не основана, подобно моей, на полнейшем уважении; я равно преклоняюсь пред вашей добродетелью, как и пред вашей наружностью, и я молю небо только о том, чтобы иметь возможность заимствовать от вас ваши благородные чувства. Моя нежность позволяет мне рассчитывать на вашу; я льщу себя надеждой, что я пробужу в вас желание увидать Париж; я еду в этот прекрасный город вымаливать ваше возвращение; буду писать вам с каждой почтой чрез посредство Лефебра, которому вы будете за каждое письмо что-нибудь давать, дабы побудить его исправно делать своё дело.
Ещё раз прощайте, дорогая моя повелительница; вспоминайте хоть изредка о вашем несчастном возлюбленном, но вспоминайте не ради того, чтобы грустить; берегите свое здоровье, если хотите уберечь моё; главное, будьте очень скрытны; сожгите это моё письмо и все последующие; пусть лучше вы будете менее милостивы ко мне, но будете больше заботиться о себе; будем утешаться надеждой на скорое свиданье и будем любить друг друга всю нашу жизнь. Быть может, я сам приеду за вами; тогда я буду считать себя счастливейшим из людей; лишь бы вы приехали – я буду вполне удовлетворен. Я хочу только вашего счастья, и охотно купил бы его ценою своего. Я буду считать себя весьма вознаграждённым, если буду знать, что я способствовал вашему возвращению к благополучию. Прощайте, дорогая душа моя! Обнимаю вас тысячу раз.
Несколько дней спустя. (1713 г.)
Меня держат в плену от имени короля; меня могут лишить жизни, но не любви к вам. Да, моя дорогая возлюбленная, я увижу вас сегодня вечером, хотя бы мне пришлось сложить голову на плахе. Ради Бога, не говорите со мною в таких мрачных выражениях, как пишете. Живите, но будьте скрытны; остерегайтесь сударыни вашей матушки, как самого злейшего вашего врага; что я говорю? Остерегайтесь всех в мире и не доверяйтесь никому. Будьте готовы к тому времени, когда появится луна; я выйду из отеля инкогнито, возьму карету и мы помчимся быстрее ветра в Ш.; Я захвачу чернила и бумагу; мы напишем наши письма; но если вы меня любите, утешьтесь, призовите на помощь всю вашу добродетель и весь ваш ум… Будьте готовы с четырёх часов; я буду вас ждать близ вашей улицы. Прощайте, нет ничего, чего бы я не вынес ради вас. Вы заслуживаете ещё гораздо большего. Прощайте, дорогая душа моя.
Екатерина Великая – князю Григорию Потёмкину

Ноября 15 ч. 1789 г.
Друг мой любезный, князь Григорий Александрович. Не даром я тебя люблю и жаловала, ты совершенно оправдываешь мой выбор и моё о тебе мнение; ты отнюдь не хвастун, и выполнил все предположения, и цесарцев выучил турков победить; тебе Бог помогает и благословляет, ты покрыть славою, я посылаю к тебе лавровый венец, который ты заслужил (но он ещё не готов); теперь, мой друг, прошу тебя, не спесивься, не возгордись, но покажи свету великость своей души, которая в счастье столь же ненадменна, как и не унывает в неудаче. Il n’y a pas de douceur mon ami que je ne voudrais vous dire: Vous etes charmant d’avoir pris Benders sans qu’il en aye coute un seul homme.
Усердие и труд твой умножили бы во мне благодарность, если б она и без того не была такова, что увеличиться уже не может. Бога прошу да укрепить силы твои; меня болезнь твоя очень беспокоила, однако, не имея от тебя более двух недель писем, я думала, что возишься около Бендер, либо завёл мирные переговоры. Теперь вижу, что догадка моя не была без основания. Нетерпеливо буду ожидать приезда Попова; будь уверен, что я для твоей вверенной армии генералитета всё сделаю, что только возможно будет, равномерно и для войска: их труды и рвение того заслужили. Как обещанную записку о цесарских награждениях получу, то и тебе скажу и мое мнение.
Любопытна я видеть письма Волосского господаря и капитана-паши бывшего о перемирии и твои ответы; всё cиe уже имеет запах мира, и тем самым непротивно. План о Польше, как его получу, то рассмотрю и не оставлю тебе, как скоро возможно, дать решительный ответь. В Финляндии начальника переменить крайне нужно, ни в чем на теперешнего положиться нельзя; в Нейшлот я сама принуждена была послать соль отсюда, ибо люди без соли в крепости; я велела мясо дать людям, а он мясо поставил в Выборг, где мясо сгнило без пользы; ни на что не решится; одним словом, неспособен к предводительству, и под ним генералы шалят и интригуют, а дела не делают, когда прилично; из сего можешь судить, сколько нужно сделать перемен там. Присланного от тебя молодца я пожаловала полковником и в флигель-адьютанты за добрые вести. L’enfant* trouve que Vous avez plus d’esprit et que Vous etes plus amusant et plus aimable, que tous ceux qui Vous entourent; mais sur cegi gardez nous le secret car il ignore que je sais cela; за весьма ласковой твой приём они крайне благодарны; брат их Димитрий женится у Вяземского на третьей дочери.
Александр Грибоедов – Нине Чавчавадзе

Душенька. Завтра мы отправляемся в Тейран, до которого отсюда четыре дни езды. Вчера я к тебе писал с нашим одним подданным, но потом расчёл, что он не доедет до тебя прежде двенадцати дней, так же к M-me Macdonald, вы вместе получите мои конверты. Бесценный друг мой, жаль мне тебя, грустно без тебя как нельзя больше. Теперь я истинно чувствую, что значит любить. Прежде расставался со многими, к которым тоже крепко был привязан, но день, два, неделя, и тоска исчезала, теперь чем далее от тебя, тем хуже. Потерпим ещё несколько, Ангел мой, и будем молиться Богу, чтобы нам после того никогда боле не разлучаться.
Пленные здесь меня с ума свели. Одних не выдают, другие сами не хотят возвратиться. Для них я здесь даром прожил, и совершенно даром.
Дом у нас великолепный, и холодный, каминов нет, и от мангалов у наших у всех головы пересохли.
Вчера меня угощал здешний Визирь, Мирза Неби, брать его женился на дочери здешнего Шахзады, и свадебный пир продолжается четырнадцать дней, на огромном двор несколько комнат, в которых угощение, лакомство, ужин, весь двор покрыт обширнейшим полотняным навесом, в роде палатки, и богато освещён, в середине Театр, разные представления, как те, которые мы с тобою видели в Табризе, кругом гостей человек до пятисот, сам молодой ко мне являлся в богатом убранстве.
Однако, душка, свадьба наша была веселее, хотя ты не Шахзадинская дочь, и я незнатный человек. Помнишь, друг мой неоценённый, как я за тебя сватался, без посредников, тут не было третьего. Помнишь, как я тебя в первый раз поцеловал, скоро и искренно мы с тобой сошлись, и на веки. Помнишь первый вечер, как маменька твоя и бабушка и Прасковья Николаевна сидели на крыльце, а мы с тобою в глубине окошка, как я тебя прижимал, а ты, душка, раскраснелась, я учил тебя, как надобно целоваться крепче и крепче. А как я потом воротился из лагеря, заболел, и ты у меня бывала. Душка!..
Когда я к тебе ворочусь! Знаешь, как мне за тебя страшно, всё мне кажется, что опять с тобою то же случится, как за две недели перед моим отъездом. Только и надежды, что на Дереджану, она чутко спит по ночам, и от тебя не будет отходить. Поцелуй ее, душка, и Филиппу и Захарию скажи, что я их по твоему письму благодарю. Если ты будешь ими довольна, то я буду уметь и их сделать довольными.
Давеча я осматривал здешний город, богатые мечети, базар, караван-сарай, но всё в развалинах, как вообще здешнее Государство. На будущий год, вероятно, мы эти места вместе будем проезжать, и тогда всё мне покажется в лучшем виде.
Прощай, Ниночка, Ангельчик мой. Теперь 9 часов вечера, ты, верно, спать ложишься, а у меня уже пятая ночь, как вовсе бессонница. Доктор говорит от кофею. А я думаю совсем от другой причины. Двор, в котором свадьбу справляют, недалек от моей спальной, поют, шумят, и мне не только непротивно, а даже кстати, по крайней мере, не чувствую себя совсем одиноким. Прощай, бесценный друг мой ещё раз, поклонись Агалобеку, Монтису и прочим. Целую тебя в губки, в грудку, ручки, ножки и всю тебя от головы до ног.
Грустно весь твой А. Гр. Завтра Рождество, поздравляю тебя, миленькая моя, душка. Я виноват (сам виноват и телом), что ты большой этот праздник проводишь так скучно, в Тифлисе ты бы веселилась. Прощай, мои все тебе кланяются.
Любовные письма Александра Пушкина Наталии Гончаровой, неизвестной даме и Анне Керн

Москва, в марте 1830 г. (Черновое, по-французски.)
Сегодня – годовщина того дня, когда я вас впервые увидел; этот день… в моей жизни…
Чем боле я думаю, тем сильнее убеждаюсь, что моё существование не может быть отделено от вашего: я создан для того, чтобы любить вас и следовать за вами; все другие мои заботы – одно заблуждение и безумие. Вдали от вас меня неотступно преследуют сожаления о счастье, которым я не успел насладиться. Рано или поздно, мне, однако, придётся всё бросить и пасть к вашим ногам. Мысль о том дне, когда мне удастся иметь клочок земли в… одна только улыбается мне и оживляет среди тяжелой тоски. Там мне можно будет бродить вокруг вашего дома, встречать вас, следовать за вами…
Москва, в конце августа.
Я отправляюсь в Нижний, без уверенности в своей судьбе. Если ваша мать решилась расторгнуть нашу свадьбу, и вы согласны повиноваться ей, я подпишусь подо всеми мотивами, какое ей будет угодно привести мне, даже и в том случае, если они будут настолько основательны, как сцена, сделанная ею мне вчера, и оскорбления, которыми ей угодно было меня осыпать. Может быть, она права, и я был неправ, думая одну минуту, что я был создан для счастья. Во всяком случай, вы совершенно свободны; что же до меня, то я даю вам честное слово принадлежать только вам, или никогда не жениться.
А. П.
Болдино, 11 октября.
Въезд в Москву запрещён, и вот я заперт в Болдине. Именем неба молю, дорогая Наталья Николаевна, пишите мне, несмотря на то, что вам не хочется писать. Скажите мне, где вы? Оставили ли вы Москву? Нет ли окольного пути, который мог бы меня привести к вашим ногам? Я совсем потерял мужество, и не знаю в самом деле, что делать. Ясное дело, что в этом году (будь он проклят!) нашей свадьбе не бывать. Но неправда ли, вы оставили Москву? Добровольно подвергать себя опасности среди холеры было бы непростительно. Я хорошо знаю, что всегда преувеличивают картину её опустошений и число жертв; молодая женщина из Константинополя говорила мне когда-то, что только la canaille умирает от холеры – всё это прекрасно и превосходно; но всё же нужно, чтобы порядочные люди принимали меры предосторожности, так как именно это спасает их, а вовсе не их элегантность и не их хорошей тон. Итак, вы в деревне хорошо укрыты от холеры, неправда ли?
Пришлите мне ваш адрес и бюллетень о вашем здоровье! Мы не окружены карантинами, но эпидемия ещё не проникла сюда. Болдино имеет вид острова, окружённого скалами. Ни соседа, ни книги. Погода ужасная. Я провожу моё время в том, что мараю бумагу и злюсь. Не знаю, что делается на белом свете, и как поживает мой друг Полиньяк. Напишите мне о том, так как я совсем не читаю журналов. Я становлюсь совершенным идиотом: как говорится – до святости. Что дедушка с его медной бабушкой? Оба живы и здоровы, неправда ли? Передо мной теперь географическая карта; я смотрю, как бы дать крюку и приехать к вам через Кяхту или через Архангельск? Дело в том, что для друга семь верст – не крюк; а ехать прямо в Москву, значить, семь верст киселя есть (да ещё какого! московского!). Вот, поистине, плохие шутки. Je ris jaune, как говорят пуассардки. Прощайте. Повергните меня к ногам вашей maman; мои сердечные приветы всему семейству. Прощайте, мой прелестный ангел. Целую кончики ваших крыльев, как говорил Вольтер людям, которые не стоили вас.
24 августа.
Ты не угадаешь мой ангел, откуда я тебе пишу: из Павловска, между Берновом и Малинниками, о которых, вероятно, я тебе много рассказывал. Вчера, своротя на проселочную дорогу к Яропольцу, узнаю с удовольствием, что проеду мимо, Вульфовых поместий, и решился их посетить. В 8 часов вечера приехал я к доброму моему Павлу Ивановичу (Эгельстрому), который обрадовался мне, как родному. Здесь я нашел большую перемену. Назад тому 5 лет Павловское, Малинники и Берново наполнены были уланами и барышнями, но уланы переведены, а барышни разъехались; из старых моих приятельниц нашел я одну белую кобылу, на которой и съездил в Малинники; но и та уж подо мною не пляшет, не бесится, а в Малинниках, вместо всех Анет, Евпраксий, Саш, Маш, etc, живёт управитель Парасковии Александровны Рейхман, который поподчивал меня шнапсом. Вельяшева, мною некогда воспетая, живёт здесь, в соседстве; но я к ней не поеду, зная, что тебе это было бы не по сердцу.
Здесь обдаюсь я вареньем и проиграл три рубля в двадцать четыре роббера в вист. Ты видишь, что во всех отношениях я здесь безопасен. Много спрашивают меня о тебе; так же ли ты хороша, как сказывают, и какая ты: брюнетка или блондинка, худенькая или плотненькая? Завтра чем свет отправляюсь в Ярополец, где пробуду несколько часов, и отправлюсь в Москву, где, кажется, должен буду остаться дня три. Забыл я тебе сказать, что в Яропольце (виноват: в Торжке) толстая m-lle Pojarsky та самая, которая варит славный квас и жарит славные котлеты, провожая меня до ворот своего трактира, отвечала мне на мои нежности: стыдно вам замечать чужие красоты, у вас у самого жена такая красавица, что я, встретя её (?) ахнула. А надобно тебе знать, что m-lle Pojarsky ни дать ни взять m-me Georges, только немного постарше. Ты видишь, моя жёнка, что слава твоя распространяется по всем уздам. Довольна ли ты? Будьте здоровы все, помнить ли меня Маша, и нет ли у ней новых затей? Прощай, моя плотненькая брюнетка (что ли?) Я веду себя хорошо, и тебе не за что на меня дуться. Письмо это застанет тебя после твоих именин. Гляделась ли ты в зеркало и уверилась ли ты, что с твоим лицом ничего сравнить нельзя на свете, а душу твою люблю я ещё более твоего лица. Прощай, мой ангел, целую тебя крепко.
Михайловское, 8 декабря.
Никак не ожидал я, очаровательница, чтобы вы обо мне вспомнили, и от глубины души благодарю вас. Байрон приобрел в глазах моих новую прелесть – все его герои в моём воображении облекутся в незабвенные черты. Вас буду видеть я в Гюльнар и в Леиле; самый идеал Байрона не мог быть так божественно-прекрасен. Итак, вас, и всегда вас, судьба посылает для услаждения моего уединения! Вы – ангел-утешитель, а я не что иное, как неблагодарный, потому что еще ропщу. Вы едете в Петербург; моё изгнание тяготит меня боле, чем когда-нибудь. Может быть, происшедшая перемена приблизить меня к вам; не смею надеяться. Не станем верить надежде; она не что иное, как хорошенькая женщина, которая обходится с нами, как со стариками-мужьями. А что поделывает ваш, мой кроткий гений? Знайте, что под его чертами я представляю себе врагов Байрона, с его женою включительно.
P. S. Опять берусь за перо, чтобы сказать вам, что я у ног ваших, что я всё вас люблю, что иногда ненавижу вас, что третьего дня говорил про вас ужасы, что я целую ваши прелестные ручки, что снова перецеловываю их в ожидании ещё лучшего, что больше сил моих нет, что вы божественны и проч.
Вы издеваетесь над моим нетерпением: вам доставляет особое удовольствие приводить меня в недоумение; мне удастся увидеть вас только завтра – пусть будет так! Я не могу, однако, заниматься только вами одними. Хотя видеть и слышать вас было бы для меня блаженством, я тем не менее предпочитаю писать вам, а не говорить. В вас есть ирония и сарказм, которые озлобляют и отнимают надежду. В вашем присутствии немеет язык и чувствуется какое-то томление. Наверно, вы – демон, т.е. дух сомненья и отрицанья, как сказано в Священном Писании. Недавно вы жестоко отозвались о прошлом: вы сказали мне, что я старался не верить в течение семи лет… Зачем это? Счастье чувствовалось мною так полно, что я не узнал его, когда оно было предо мной.
Не говорите мне более о нём. Бога ради. Сожаление, когда всё делается известным, это острое сожаление, соединенное с каким-то сладострастием, похоже на бешенство de……
Дорогая Элеонора, позвольте мне назвать вас этим именем, напоминающим мне жгучие чтения вместе с увлекавшим меня тогда сладким призраком и вашу собственную жизнь, столь порывистую, бурную и отличную от того, чем бы она должна была быть. Дорогая Элеонора, вам известно, что я испытал на себе всю силу вашего обаяния и обязан вам тем, что любовь имеет самого сладостного. От всего этого у меня осталась одна привязанность – правда, очень нежная, и немного страха, которого я не могу побороть в себе. Если вам когда-нибудь попадутся на глаза эти строки, я знаю, что вы тогда подумаете: «он оскорблён прошлым, вот и вёе; он заслуживает, чтоб я его вновь…» Неправда ли?
А между тем, если бы я, принимаясь за перо, вздумал вас спросить о чем-нибудь, то я, право, не знал бы, о чем. Да… разве о дружбе. Эта просьба была бы вульгарна, как просьба нищего о куске хлеба. На самом же деле мне нужна ваша интимность…
А между тем вы всё так же хороши, как в тот день, когда ваши губы коснулись моего лба. Я чувствую ещё до сих пор их влажность и невольно превращаюсь в правоверного; но вы будете… Эта красота надвигается, как лавина; le monde aura vorte ame – restez debout quelque temps encore, etc.
Виссарион Белинский – Марии Орловой

Санкт-Петербург 1843 г., сентябрь 7-го, вторник.
Вчера должны были вы получить первое письмо моё к вам. Я знаю, с каким нетерпением, с каким волнением ждали вы его; знаю, с какою радостью и каким страхом услышали вы, что есть письмо к А. В., и какого труда стоило вам с сестрою принять на себя вид равнодушия. Я не мог писать к вам тотчас же по приезде в Петербург, потому что жил на биваках и был вне себя. Первое письмо моё написано кое-как. В продолжение дней, в которые должно было идти оно в М., я только и думал о том, когда вы получите .его; я мучился тем же нетерпением, как и вы; мысль моя погоняла ленивое время и упреждала его; с радостью видел я наступление вечера и говорил себе: «днём меньше!» Но вчера я был, как на углях, рассчитывая, в котором часу должны вы получить моё письмо.
Я не могу видеть вас, говорить с вами, и мне остается только писать к вам; вот почему второе письмо моё получите вы, не успевши освободиться из-под впечатления от первого. Мысль о вас делает меня счастливым, и я несчастен моим счастьем, ибо могу только думать о вас. Самая роскошная мечта стоит меньше самой небогатой существенности; а меня ожидает богатая существенность: что же и к чему мне все мечты, и могут ли они дать мне счастье? Нет, до тех пор, пока вы не со мной, – я сам не свой, не могу ничего делать, ничего думать. После этого очень естественно, что все мои думы, желания, стремления сосредоточились на одной мысли, в одном вопросе: когда же это будет? И пока я ещё не знаю, когда именно, но что-то внутри меня говорить мне, что скоро. О, если бы это могло быть в будущем месяце!
Без меня мои растения ужасно разрослись, а что больше всего обрадовало меня, так это то, что без меня расцвела одна из моих олеандр. Я очень люблю это растение, и у меня их целых три горшка. Одна олеандра выше меня ростом. После тысячи мелких и ядовитых досад и хлопот, Боткин, наконец, уехал за границу. Это было в субботу (4 сентября). Я провожал его до Кронштадта. День был чудесный, – и мне так отрадно было думать и мечтать о вас на море. Расстались мы с Б. довольно грустно, чему была важная причина, о которой узнаете после.
Странное дело! Я едва мог дождаться, когда перейду на мою квартиру, а тут мне тяжела была мысль, что я вот сегодня же ночую в ней. И теперь ещё мне как-то дико в ней. Впрочем, это будет так до тех пор, пока я вновь не найду самого себя, т.е., пока вы не возвратите меня самому мне. До тех пор мне одно утешение и одно наслаждение: смотреть на стены и мысленно определять перемещение картин и мебели. Это меня ужасно занимает.
Скажите: скоро ли получу я от вас письмо? Жду – и не верю, что дождусь, уверен, что получу скоро – и боюсь даже надеяться. О, не мучьте меня, но, ведь, вы уже послали ваше письмо, и я получу его сегодня, завтра! – не правда ли?
Прощайте. Храни вас Господь! Пусть добрые духи окружают вас днём, нашёптывают вам слова любви и счастья, а ночью посылают вам хорошие сны. А я, – я хотел бы теперь хоть на минуту увидать вас, долго, долго посмотреть вам в глаза, обнять ваши колени и поцеловать край вашего платья. Но нет, лучше дольше, как можно дольше, не видаться совсем, нежели увидеться на одну только минуту, и вновь расстаться, как мы уже расстались раз. Простите меня за эту болтовню; грудь моя горит; на глазах накипает слеза: в таком глупом состоянии обыкновенно хочется сказать много и ничего не говорится, или говорится очень глупо.
Странное дело! В мечтах я лучше говорю с вами, чем на письме, как некогда заочно я лучше говорил с вами, чем при свиданиях. Что-то теперь Сокольники. Что заветная дорожка, зелёная скамеечка, великолепная аллея? Как грустно вспомнить обо всём этом, и сколько отрады и счастья в грусти этого воспоминания!
Лев Толстой – Софии Бернс

16 сентября 1862 г.
Софья Андреевна, мне становится невыносимо. Три недели я каждый день говорю: нынче все скажу, и ухожу с той же тоской, раскаянием, страхом и счастьем в душе. И каждую ночь, как и теперь, я перебираю прошлое, мучаюсь и говорю: зачем я не сказал, и как, и что бы я сказал. Я беру с собою это письмо, чтобы отдать его вам, ежели опять мне нельзя, или недостанет духу сказать вам всё. Ложный взгляд вашего семейства на меня состоит в том, как мне кажется, что я влюблён в вашу сестру Лизу. Это несправедливо. Повесть ваша засела у меня в голове, оттого, что, прочтя её, я убедился в том, что мне, Дублицкому, не пристало мечтать о счастье, что ваши отличные поэтические требования любви… что я не завидую и не буду завидовать тому, кого вы полюбите. Мне казалось, что я могу радоваться на вас, как на детей.
В Ивицах я писал: «Ваше присутствие слишком живо напоминаешь мне мою старость, и именно вы». Но и тогда, и теперь я лгал перед собой. Ещё тогда я мог бы оборвать всё и опять пойти в свой монастырь одинокого труда и увлечения делом. Теперь я ничего не могу, а чувствую, что напутал у вас в семействе; что простые, дорогие отношения с вами, как с другом, честным человеком потеряны. И я не могу ухать и не смею остаться. Вы честный человек, руку на сердце, не торопясь, ради Бога не торопясь, скажите, что мне делать? Чему посмеёшься, тому поработаешь. Я бы помер со смеху, если бы месяц тому назад мне сказали, что можно мучаться, как я мучаюсь, и счастливо мучаюсь это время.
Скажите, как честный человек, хотите ли вы быть моей женой? Только ежели от всей души, смело вы можете сказать: да, а то лучше скажите: нет, ежели в вас есть тень сомнения в себе. Ради Бога, спросите себя хорошо. Мне страшно будет услышать: нет, но я его предвижу и найду в себе силы снести. Но ежели никогда мужем я не буду любимым так, как я люблю, это будет ужасно!