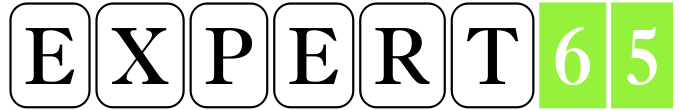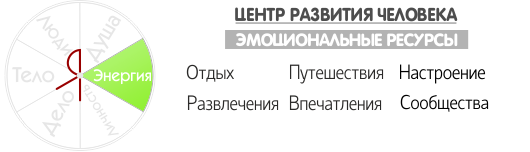Получать удовольствие от жизни, ценить других и радоваться вместе с ними может лишь тот, кто любит самого себя. Историк Наталья Никс размышляет о том, почему эта истина так непопулярна в России.
Фраза «Я себя люблю; я себя уважаю» звучит как-то не по-русски. И если сегодня наши молодые соотечественники все же готовы ее озвучить («А кого еще любить!»), то старшему поколению понятие «любовь к себе» кажется почти неприличным. В любом случае некая неловкость налицо. Но есть ли проблема? Ведь мы любим родителей, мужа или жену, детей, друзей – разве этого недостаточно?
Оказывается, нет. Разбираясь в философских и психологических тонкостях любви, определяя ее виды (эротическая, платоническая, родительская, патриотическая), нам трудно поверить: все начинается с любви к самому себе, и только потом это чувство обращается к близким, противоположному полу, ребенку, родине и т. д. Принятие себя, любовь к себе – одна из наиболее существенных, базовых потребностей человека – это утверждают психологи разных школ и направлений. Если она удовлетворена, наша жизнь гармонична, если нет, возникают проблемы.
Как самого себя
Как мы к себе относимся? Особенно остро этот вопрос стоит для русских (российских) людей, сотни поколений которых воспитывались на идеях любви к кому угодно – от ребенка до царя или генсека, кроме самого себя. Какие национальные особенности взрастили в нас эту нелюбовь к себе?
Истоки, вероятнее всего, кроются в христианской традиции. Опираясь на текст Священного Писания, церковь во все времена призывала «любить ближнего». Однако полностью слова Христа в Евангелии звучат так: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Идея, выраженная в этой библейской заповеди, подразумевает, что уважение к своей целостности и уникальности, любовь к себе и понимание своего «я» неотделимы от понимания другого человека, уважения и любви к нему.
Размышляя об этом, выдающийся психолог и философ Эрих Фромм писал: «Если добродетельно любить ближнего как человеческое существо, то добродетельной, а не порочной должна быть и моя любовь к самому себе, раз я – тоже человеческое существо». Но православная традиция всегда делала акцент на первой части евангельской цитаты.
Европейские удовольствия
Европейцы иначе осваивали «науку» любви к себе. Начиная с античных времен в западной философии, этике и искусстве параллельно с идеями самоотречения и аскезы развивалось гедонистическое учение. Древним стоикам, проповедовавшим отказ от земных удовольствий в пользу духовного совершенства, неизменно противостояли эпикурейцы, прославлявшие плотские утехи, а суровым средневековым философам-схоластам, погруженным в размышления о божественном, – развеселые поэты-ваганты с их представлениями о мире как о кабаке, где каждый может на славу повеселиться. И, хотя на протяжении многих столетий чувственная, «плотская» линия в европейской культуре оставалась маргинальной и даже несколько крамольной, полностью она никогда не прерывалась.
Начиная же с эпохи Возрождения в Европе начинается подлинный культ телесного: полотна Рубенса и Тициана, нарочитая вычурность барочного стиля – все это призывало видеть красоту чувственного мира в каждом явлении жизни.
Русское искусство, напротив, на протяжении всей своей истории было подчеркнуто сдержанным. Идеи социальности, служения высшим идеалам, направленность в первую очередь на духовную сферу составили главное его содержание. Еще Николай Бердяев отмечал: русская художественная культура возникла не из радостного творческого избытка, а от муки страдальческой судьбы человека и народа, из поиска всечеловеческого спасения. Гедонистические мотивы, столь распространенные на Западе, присутствуют у нас лишь незначительными вкраплениями и полнее всего оказались выражены в архитектуре модерна начала XX века.

Культ ближнего
Русская литературная и философская традиции создали культ любви к другому, «ближнему», но не к самому себе. Об этом ясно говорили русские философы: «Любовь есть совершенная отдача себя другому. «Меня» уже нет, а «все – твое» (В. Розанов); «Любовь есть счастие служения другому» (С. Франк). Так провозглашалась особая сила любви: она упраздняла эгоизм и возрождала личность в новом нравственном качестве.
Ни в русской литературе (за исключением, быть может, только сказок), ни в художественном творчестве практически не встретить примеров радостной, счастливой любви. При этом о самом чувстве русские писатели XIX века говорили глубоко и много. В произведениях Пушкина и Лермонтова, Гончарова и Тургенева, Толстого и Достоевского, Лескова и Куприна сложились черты русской любви – вечной и возвышенной. Она чаще всего безответная, неразделенная, самоотверженная.
Это победа над культом плоти и обладания, это любовь-подвиг. Декабристки, отправившиеся за мужьями в Сибирь, мечущиеся и жаждущие идеала героини Достоевского, цельные женские образы Толстого – все они берут начало в пушкинской Татьяне. Ведь она, «русская душою», пожертвовала не только своим чувством к тому, кого любила, она в конечном итоге пожертвовала любовью к самой себе ради счастья и спокойствия другого человека, к которому любви не испытывала, но которому оказалась «навеки отдана». Поступок, достойный русской женщины...

Наступил ХХ век: на Западе умами владел экзистенциализм с его проблемами жизни и смерти, любви и одиночества, смысла и бессмысленности существования, идеями самодостаточности человека, жизни «здесь и сейчас». А советский тоталитарный режим просто не предполагал развития личностного начала, индивидуальности человека. Внутреннее освобождение было скорее привилегией немногих, нежели практикой большинства.
Ненужные жертвы
От не любящего себя человека нередко можно услышать, что он «всегда жил для других». Чаще так говорят женщины, посвятившие свою жизнь мужу, детям, внукам и т. д. Особенно эта позиция характерна для женщин России, где идея жертвенной любви была выпестована и православной традицией, и литературой. В России жить для себя и любить себя всегда считалось чуть ли не греховным делом; такой человек был объектом порицания и осуждения. И наоборот, тот, кто посвятил жизнь другому, становился образцом для подражания, символом правильно прожитой жизни.
Именно от такого человека мы слышим бесконечные жалобы на то, что он (она) пожертвовал(а) своим счастьем ради счастья детей (друзей, близких и т. д.), а теперь его (ее) не ценят и не любят. Но ведь и не могут любить, потому что в ответ на нелюбовь к себе чувство любви не возникает.
Так и получается: мы живем для других (а точнее, жизнью других людей) и при этом упускаем собственную жизнь. Разве не обидно? А ведь у каждого из нас своя судьба, своя жизненная задача, за выполнение (или невыполнение) которой мы несем ответственность. И прежде всего – перед собой.
Любовь к себе или эгоизм?
Эти понятия только кажутся похожими. Изнутри «любовь к себе» и «эгоизм» – позиции прямо противоположные.
Любовь к себе – чувство интимное. Эта скрытая от чужих глаз область предназначена лишь для меня одного. Мне хорошо с собой – спокойно разговаривать, понимать себя. Хорошо жить в собственном ритме и проживать то, что нравится, и разрешать себе быть собой со всеми вытекающими отсюда банальностями: оказывается, жареную картошку я люблю больше, чем лобстеров. И даже делая то, что не нравится, но нужно делать, я нахожу время для себя, разрешаю себе себя пожалеть, а может быть, даже попечалиться над своей долей. Любовь к себе – это мужество принимать себя всерьез. И свои таланты, и свое несовершенство. Эгоизм – поведение, ведомое мыслью о собственной выгоде.
Любить себя – значит хорошо обращаться с собой.
 Такое отношение к себе парадоксальным образом делает нас независимыми от внешних условий. Согласитесь: либо мы умеем с собой дружить и проходим через жизнь со всеми ее черно-белыми полосами, имея теплый и надежный тыл в лице самих себя, либо всю дорогу стараемся не замечать, что внутри нас лишь холодная пустота. А она создает невероятное напряжение и должна быть чем-то заполнена. В эту воронку мы судорожно бросаем свои успехи, достижения, признаки благополучия – эффектные, вызывающие зависть атрибуты хорошей жизни.
Такое отношение к себе парадоксальным образом делает нас независимыми от внешних условий. Согласитесь: либо мы умеем с собой дружить и проходим через жизнь со всеми ее черно-белыми полосами, имея теплый и надежный тыл в лице самих себя, либо всю дорогу стараемся не замечать, что внутри нас лишь холодная пустота. А она создает невероятное напряжение и должна быть чем-то заполнена. В эту воронку мы судорожно бросаем свои успехи, достижения, признаки благополучия – эффектные, вызывающие зависть атрибуты хорошей жизни.
И вот мы видим, что многого достигли, но ощущения тепла нет. Мы честолюбивы и безупречны, нам нравится внимание других людей. Но мы всего лишь остаемся эгоистами, потому что все свое время посвящаем одной главной потребности – спастись, хотя бы временно, от чувства грандиозного одиночества, приносящего страдание, с которым другие, любящие себя, не знакомы.